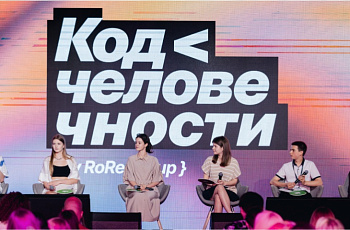— На российских платформах, маркетплейсах появилась специальная галочка «Сделано в России». По ней мы можем отфильтровать товары. По вашей оценке, как изменилась российская экономика, ее отраслевая структура, с таким серьезным проникновением платформ?
— Платформенная экономика — это глобальное явление. Оно появилось не только у нас. Но Россия является одной из трех стран, где есть собственные национальные платформы, и они работают не только на российском рынке, но, если мне не изменяет память, еще в 17 странах.
Платформенная экономика очень сильно снижает порог выхода на рынок. И с точки зрения инвестиций, и с точки зрения объема производства товара, и с точки зрения доступности в дальних концах рынка, так скажем. То есть и производитель из какой-то периферийной территории, и покупатель не из центра имеют доступ практически к той же полке, что и покупатель из столичного или областного центра.
— Не кажется ли вам, что такое проникновение платформ и развитость платформенной экономики — это палка о двух концах? С одной стороны, эффективные производители получают доступ ко всему рынку. С другой стороны, платформа приходит в небольшую деревню, село, и там мелкие магазинчики или производители могут не выдержать конкуренции и закрыться. Как соблюсти баланс?
— Это вечная тема, в экономике она описана через смену укладов, через так называемые промышленные революции. И глобальный вывод состоит в том, что промышленная революция всегда приводит к тому, что представители старого уклада уходят с рынка, представители нового уклада появляются на рынке. И пока история третьей или четвертой промышленных революций, показывает, что инновации действительно закрывают, делают бессмысленной часть видов деятельности. Но и создают возможности для гораздо большего количества видов деятельности.
Думаю, что нынешняя революция, связанная с внедрением искусственного интеллекта, интернета, будет иметь тот же эффект. Вопрос в том, каков будет временной интервал между закрытием старых мест и открытием новых. И насколько велика разница между требованиями к компетенциям людей, которые работали в прежнем укладе, и требованиями, которые предъявляет новый уклад. Это вопрос. Поэтому, действительно, закрываются одни рабочие места, но создаются возможности для тиражирования соседних производств. И стало уже общим местом говорить, что маленькое семейное хозяйство из какого-нибудь уральского региона, которое производит козий сыр, получило доступ к 40 регионам Российской Федерации. Подумать об этом раньше было просто невозможно.
Или еще одна тоже растиражированная история про предпринимателя из Удмуртии, который продавал веники для бани. Он их делал, может быть, несколько сотен в год, и продавал, что называется, в радиусе 10–15 км. Сейчас он тоже работает, и даже на экспорт поставляет эти самые веники. Это возможности, которые созданы платформами.
— То есть, получается, что козий сыр из одного региона может подавить в конкурентной борьбе аналогичный продукт из другого?
— Теоретически, наверное, да. Но, если представить себе, в каких масштабах производятся продукты из козьего молока — это пока очень локальные, небольшие масштабы. И, что важно, такие масштабы, как правило, традиционной торговле неинтересны. Традиционная торговля должна обеспечивать постоянное наличие товарной позиции. В платформенной экономике проще. Да, там тоже есть такие пожелания, но туда выходят очень небольшие производители. И платформа помогает им раскрутиться, создать бренд, репутацию, что тоже очень важно, и с относительно небольшими затратами.
— Государство также активно идет в платформы. Регионы развивают свои платформы. Какой вы видите роль этого бизнес-феномена в государственном секторе, и в развитии регионов, в частности?
— То, что платформы развиваются со стороны государства, и теперь многие государственные услуги можно получить через платформы — это тоже знак времени. Это современно. И, кстати, качество оказания государственных услуг в России — одно из лучших в мире. То есть оно недостижимо в большинстве развитых европейских стран. Возможно, мы недооцениваем это или привыкли к этому, но это очень высокий уровень. Это часть, так скажем, платформенной философии, которую использует государство.
А платформы коммерческие, причем не только маркетплейсы, а информационные, финансовые, логистические, образовательные платформы, связанные с развлекательным контентом, — они создают огромные возможности для занятости в любом регионе. Причем предпринимателю из очень отдаленного от больших рынков места становятся доступны практически неограниченные рынки. Мы еще не говорили с вами об экспорте, где платформы тоже являются важным каналом, который упрощает доступ производителям, прежде всего, товаров на экспорт. Поэтому для регионов платформы — это возможность поддержки и развития местных производителей. Даже если нет рядом склада, хотя сейчас многие регионы ищут такую возможность, радуются такой возможности, если у них создается склад.
Но это не главное. Главное то, что любой производитель, может быть, традиционных товаров и услуг с очень маленьким объемом неожиданно получает возможность мультиплицировать свой бизнес, а это налоги для региона. Как только он начинает увеличивать масштаб своего бизнеса, он создает возможности для смежных производств, которые тоже начинают развиваться в этом же регионе. Поэтому это такая длинная цепочка создания добавленной стоимости, которая стимулирует и увеличивает объем экономической активности в регионе.
— То есть регионам и, может быть, даже федералам лучше интегрироваться в уже существующее решение от частного бизнеса, или создавать свои платформы?
— Я думаю, что вряд ли коммерческие платформы возьмут на себя выполнение государственных функций, особенно связанных с исполнением обязательств государства перед гражданами, связанных с персональными данными в интересах государства. Я бы здесь говорил о возможной синергии. Взаимодействие государственных и коммерческих платформ может создавать дополнительные возможности в решении задач и первого, и второго игрока. Государство будет решать свои проблемы, опираясь на возможности коммерческих платформ. Коммерческие платформы могут решать качественнее свои задачи, если будут иметь доступ к возможностям государственных платформ.
— Кстати, частные платформы, насколько я знаю, уже выступают или будут выступать налоговыми агентами для ФНС.
— Не совсем. Я хотел заострить на этом внимание, они не являются в строгом смысле этого слова налоговыми агентами. Они не выполняют функции по сбору налогов. Но они как организации, которые обладают информацией о поведении предпринимателей, работающих на платформе, в состоянии оценить риски, так называемые риски дробления, ну, или более широко — риски недобросовестного поведения. Причем эту информацию они получают из налоговых органов либо идентифицируют по ряду индикаторов. Но они в данном случае направляют только запрос этой платформе, смысл которого в том, что «по ряду признаков вы находитесь в ситуации, похожей на нарушение налогового законодательства, пожалуйста, дайте свои пояснения».
И это хорошая история. Потому что, если этот процесс отпустить в долгую, а потом, когда проблема вырастет во что-то большое и туда придет налоговая, то наиболее вероятным исходом будет банкротство этого предприятия за нарушения в налоговом законодательстве. Здесь мы видим возможность профилактики этой истории. И платформы в этом заинтересованы, чтобы сохранить компанию, которая работает. Да и налоговые органы, и регионы заинтересованы в том, чтобы бизнес продолжал действовать. Поэтому это важная информационная задача, которая профилактирует правонарушения в налоговой сфере, и вкупе с возможностью амнистий, о чем налоговая служба тоже говорит, создает нормальный механизм легализации и выхода в белый прозрачный бизнес, особенно для малых и средних предпринимателей.
— Наши платформы как технологические решения конкурентоспособны на мировом рынке. Но насколько конкурентоспособны, во-первых, наши производители, чтобы использовать эти платформы для выхода на мировые рынки. Во-вторых, насколько зарубежные производители захотят пользоваться услугами российских платформ на своих национальных рынках?
— Здесь возникает ситуация, особенно в третьих странах, когда российская платформа выходит в страну, где нет собственной национальной платформы. Но, как мы видим, подавляющее большинство стран мира не имеет собственных платформ, и тогда они сталкиваются с конкуренцией. Здесь вопрос, у кого качество сервиса будет лучше. Что касается российских товаров, вообще, как правило, платформы выходят на зарубежные рынки прежде всего с предложением российских товаров, это наиболее логичная ситуация. И с предложением товаров тех рынков, на которых они находятся, для российского рынка. Это, в общем, такая нормальная бизнесовая логика, с которой платформа начинает экспансию на зарубежные рынки.
А дальше — это вопрос конкурентоспособности товара. Вот сейчас мы слышали, конечно, о таком необычном примере: часы «Ракета», собственником бренда является гражданин Франции, который его и продвигает. В общем, «Ракета» связана с представлением о России, с историей космонавтики в СССР и в России. И он говорит, что эти часы абсолютно конкурентоспособны, например, в таких странах, как Швейцария. У них отличные продажи в ведущих европейских странах. Российские бренды покупают. Мы иногда стесняемся бренда «Сделано в России», а они преподносят это, как конкурентное преимущество, и это работает. Поэтому здесь нечего стесняться, надо пробовать, и, конечно, стремиться к тому, чтобы качество было адекватным.
— Вопрос про конкуренцию с зарубежными платформами. Наши российские национальные платформы уже окончательно их подавили? Надо ли их как-то дополнительно поддерживать, защищать?
— Это не бинарный процесс, победили или не победили. Конкуренция продолжается. Количество товаров (про услуги мы не будем говорить, они, как правило, отечественного происхождения) на платформах уже достигает десятков миллионов позиций. И здесь можно найти очень многое. И сегодня на одной из сессий прозвучало от одной из платформ, что каждый третий товар российского происхождения на платформе, то есть это миллионы российских товаров.
Наверное, по каким-то позициям некоторые потребители традиционно идут к иностранным платформам, хотя сервисы российских платформ и разнообразие товаров стали либо сопоставимыми, либо даже получили преимущество по сравнению с другими платформами. И, если вы покупаете большое количество товаров повседневного спроса на платформе, то вы точно заглянете туда для того, чтобы поискать какой-то и импортный товар тоже. И только, наверное, потому что вы уже сидите в этом приложении, у вас уже есть какие-то бонусы, у вас много стимулов к тому, чтобы продолжать оставаться на этой платформе или на одной из российских платформ. Как правило, и покупатели, и продавцы пользуются несколькими платформами. Последние, что апеллировать к разным категориям потребителей.
Кстати, об этом уже говорится и в правительстве, об этом говорил президент, что мы должны внимательно смотреть на то, чтобы не ставить свои платформы в ущемленное положение по сравнению с иностранными. Потому что фактически мы не регулируем иностранные платформы, а наши пытаемся регулировать. Дискуссия по поводу закона о платформенной экономике по понятным причинам идет непросто. Закон прошел правительство, но еще не пришел в Государственную Думу. И здесь важно вспомнить наш базовый принцип — риск-ориентированное регулирование. Регулировать не потому, что есть процесс, а потому, что там есть потенциальная проблема, которая может ущемить либо интересы потребителя, либо интересы продавца, либо интересы оператора самой платформы.
Поэтому здесь важно не зарегулировать своих, притом, что чужих нам регулировать будет довольно сложно.
— Какие задачи вы перед собой ставите, как Ассоциация цифровых платформ, и какие у вас приоритеты на кратко- и среднесрочную перспективу?
— В принципе, существует Ассоциация компаний интернет-торговли, где и наши учредители, и другие платформы, крупные и не очень, продолжают участвовать. Идея создать Ассоциацию цифровых платформ как отдельную организацию, возникла у пяти крупнейших платформ — «Яндекс», Ozon, Wildberries, «Авито», и, тогда «Сбермаркет», сейчас «Купер». Именно для того, чтобы объединить самых крупных игроков. И главная идея Ассоциации — это продвижение платформенной экономики, как феномена, как явления, как объекта регулирования.
— Потому что есть разница между интернет-торговлей и платформами?
— Да, безусловно. Но при этом нужно понимать, что и закон о платформенной экономике, и повестка Ассоциации цифровых платформ шире, чем, например, маркетплейсы. Маркетплейсы — одна из форм платформ, так называемых трансакционных. Где через платформу вы можете оплатить этот товар. Но есть еще большое количество других платформ. Это и финансовые платформы, образовательные, услуги, логистические платформы. Их очень много. У Ассоциации цифровых платформ нет задачи собрать всех, но, возможно, еще какие-то два-три-четыре крупных игрока могут со временем появиться, в том числе не связанные с маркетплейсами, то есть не осуществляющие транзакционную деятельность. С тем, чтобы Ассоциация представляла все или большое количество видов платформенной экономики. Главная задача — ввести дружественное регулирование этой деятельности, повторяю, с тем, чтобы избежать риска для всех участников: продавцов, покупателей и операторов самих платформ. И, конечно, государства, которое заинтересовано, как минимум, в налогах, в соблюдении трудового законодательства, в обеспечении социальных нужд тех, кто занят на платформах. Я имею в виду пенсионное обеспечение, больничные и так далее. Вот это долгосрочная повестка Ассоциации.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag